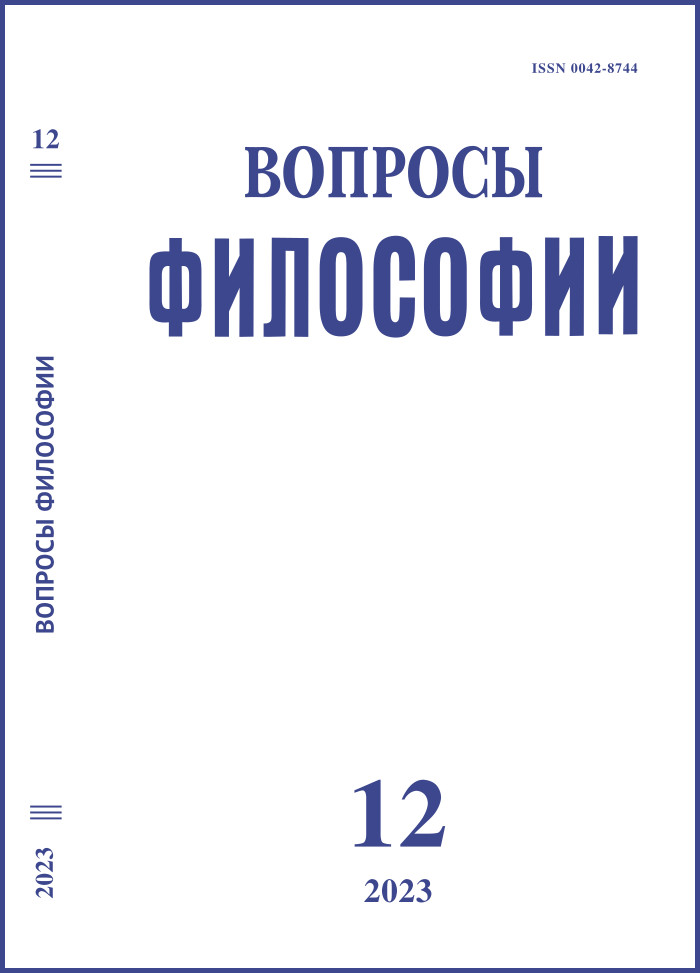Единственный среди многих: М.М. Бахтин и смена парадигм в гуманитарном познании
DOI:
https://doi.org/10.21146/0042-8744-2023-12-169-179Ключевые слова:
«конец Нового времени», первая философия, смена парадигм, диалогический принцип, новое мышление, другой, «сфера-между», бытие-событиеАннотация
В истории русской мысли Михаил Михайлович Бахтин занимает несколько странное, как бы не вполне уместное место. Научно-критическая литература о нем обширна и продолжает расти, но не вполне проясненным остается старый вопрос: «Откуда взялся Бахтин?». Этот мыслитель и ученый явно не укладывается ни в дореволюционную, ни в советскую философию, ни в идеалистическую, ни в материалистическую традицию, ни в религиозное, ни в атеистическое мировоззрение. А с западноевропейской философией у него совсем особые отношения. Бахтин критически относился как раз к тем своим предшественникам и старшим современникам, под определяющим влиянием которых он сложился как философ (И. Кант, Г. Коген и неокантианство, Э. Гуссерль). И, наоборот, мыслители, скорее чуждые ему (как К. Маркс или З. Фрейд), вызывали у него живой полемический интерес как диалогические оппоненты. Европейский экзистенциализм Бахтин, похоже, не очень ценил, несмотря на то (или, скорее, потому), что в юности воспринял экзистенциальные импульсы от Достоевского и Кьеркегора; что не мешало ему понимать философию как строгую науку, дистанцируясь, в частности, от того, что он называл «свободным русским мыслительством», «нашими мыслителями самодумами» и т.п. Чем больше мы узнаем о М.М. Бахтине, тем труднее понять, откуда он «взялся». Автор статьи старается приблизиться к ответу на этот вопрос, опираясь на понятие «смена парадигм», примененное здесь к методологии гуманитарных наук.