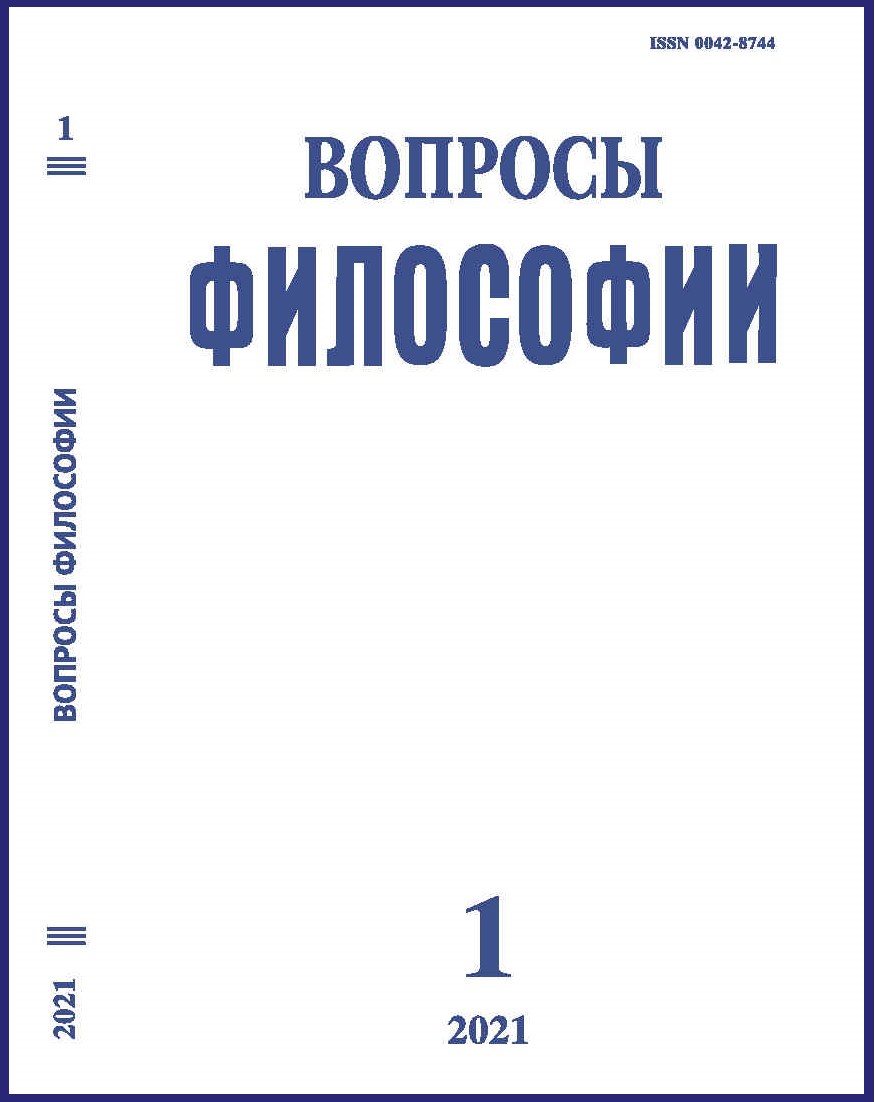Формирование историософского дискурса в России в первой трети XIX в.
DOI:
https://doi.org/10.21146/0042-8744-2021-1-122-131Ключевые слова:
негативная философия истории, мессианство, идеология, понятийный язык, метафоричность.Аннотация
В основу статьи легла мысль о том, что историософский дискурс в той форме, какую он приобрел в 1830-е гг., представляет собой особый творческий жанр и потенциальный идеологический ресурс. В статье перечислены тенденции и признаки концептуального подхода к истории на первом этапе ее осмысления в России. Рассматриваются тексты Д.В. Веневитинова, И.В. Киреевского и П.Я. Чаадаева конца 1820-х – начала 1830-х гг., дающие представление о преемственности идей и стилевых особенностях историософии. Провиденциальная концепция истории Н.М. Карамзина повлияла на дальнейший историософский дискурс, но если пессимистическое видение российской истории Чаадаева было ответом на идиллическую картину Карамзина, то Киреевский позитивную позицию Карамзина трансформировал в оптимистический мессианский ресурс. В обоих случаях не была воспринята гуманистическая антропология Карамзина. Сверхзадача историософии была сформулирована как поиск смысла истории России – постановка, располагающая к риторическому оперированию мифологическими и идеологическими конструктами. Истоки русского мессианства обнаруживаются в консервативной реакции европейских религиозных мыслителей на Французскую революцию, выразившейся в концепте «упадка и загнивания Европы». Философия истории воплощалась во внепонятийном дискурсе с присущим ему субъективизмом, телеологизмом и провиденциализмом с элементами декларативной компаративистики. Ранняя негативная философия истории и философия истории начала XX в., в частности историософская концепция сборника «Вехи», обнаруживают генетическое сходство в качестве реакций на соответствующие социально-политические кризисы.