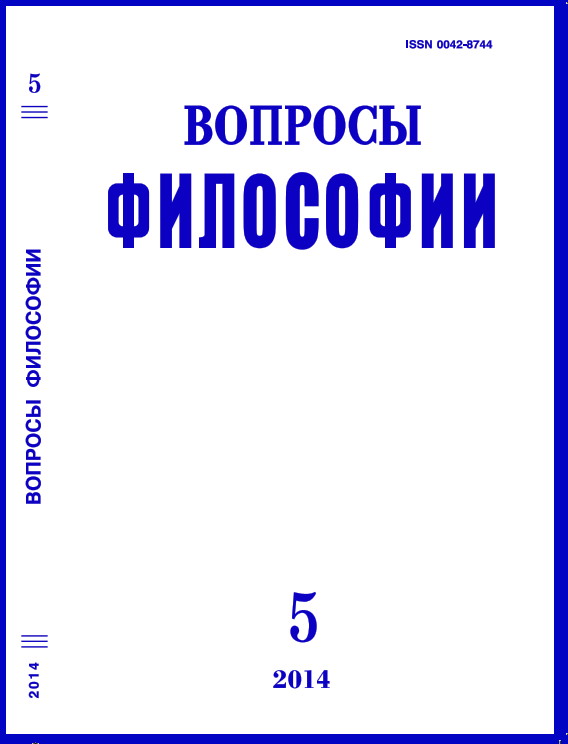Человек в свете “реализма в высшем смысле” (Достоевский, Шекспир, Сервантес, Бальзак, Маканин)
Аннотация
М.М. Бахтин определял область своих основных интересов как “философскую антро- пологию” [Бахтин 2002–2012 VI, 563]. Это естественно: философское осмысление чело- веческой личности, ее роли и места в мироздании, является главной темой для каждого, всерьез изучающего творчество Достоевского.
В черновиках Достоевского есть немало записей, над которыми надолго задумыва- ешься. Вот, например: «Какая разница между демоном и человеком? Мефистофель у Гете говорит на вопрос Фауста: “Кто он такой” – “Я часть той части целого, которая хочет зла, а творит добро”. Увы! человек мог бы отвечать, говоря о себе совершенно обратно: “Я часть той части целого, которая вечно хочет, алчет, жаждет добра, а в результате его деяний одно лишь злое”» [Достоевский 1972–1990 XXIV, 287–288]. Эта запись 1876 г. сопровождается высказываниями Достоевского от собственного лица, но даже если писатель намеревался высказать эту мысль от какого-либо другого лица, она весьма знаменательна и максималь- но приближает нас к сути трагического конфликта человеческого бытия. Как известно со времен Аристотеля, трагедия способствует очищению душ зрителей посредством пере- живания ими ужаса или сострадания, вызванного судьбой человека, “ввергнутого в несча- стье не по своей негодности или порочности, но по какой-то ошибке (αμαρτια)” [Катарсис 2007, 9]. Ошибка, надо полагать, заключается в определении реальности: что именно есть реальность и где она находится.