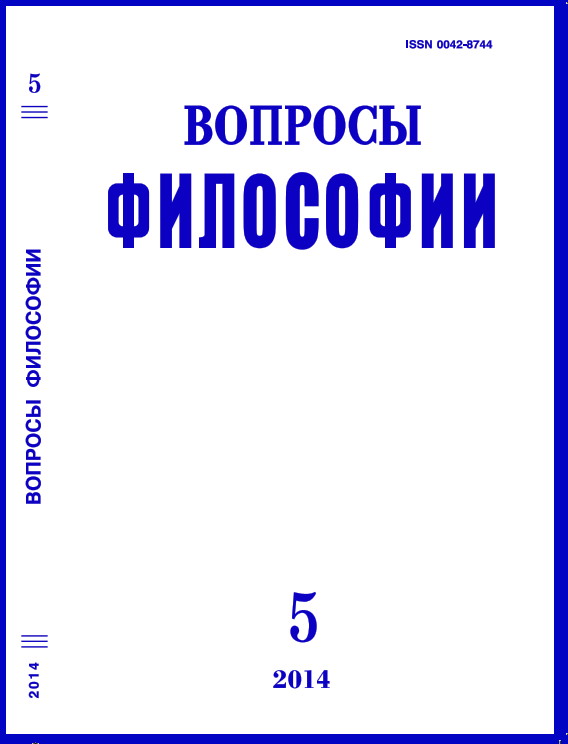Дневник читателя и поэтика “страшного”
Аннотация
В своих дневниковых записях Достоевский поднимает тему чтения в контексте писа- тельского творчества. В письме к брату от 24 марта 1845 г. он затрагивает вопросы “чте- ния”, “вчитывания”, “перечитывания”, создающие необходимый “мостик” к созданию собственных произведений: “когда не пишу, – читаю. Я страшно читаю, и чтение стран- но действует на меня. Что-нибудь, давно перечитанное, прочитаю вновь и как будто на- прягусь новыми силами, вникаю во всё, отчётливо понимаю, и сам извлекаю умение со- здавать” (курсив мой. – М.К.) [Достоевский 1985, 108]. Заметим, что уже в самом начале творчества Достоевского, в “Бедных людях”, как писал С.Г. Бочаров, «проявилось то от- личающее Достоевского чувство существенной, тесной и страстной связи с литературой, с литературным процессом, какое не было свойственно, например, Толстому. “Бедные люди” сразу включались в литературный ряд, во внутренней их структуре происходило “выяснение отношений” с повестями Пушкина и Гоголя» [Бочаров 1985, 179]. Этот твор- ческий метод писателя, о котором говорил Альфред Бем в статье “Достоевский – гениаль- ный читатель”, развивают в своих эссе, посвященных “поэтике чтения”, немецкоязычные авторы XX в. Так, “страшное чтение” Достоевского перетекает в “состояние потрясения” при чтении (между прочим) текстов Достоевского, которое, как пишет Музиль, является основным источником создания чего-то своего собственного.